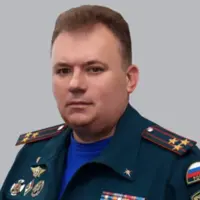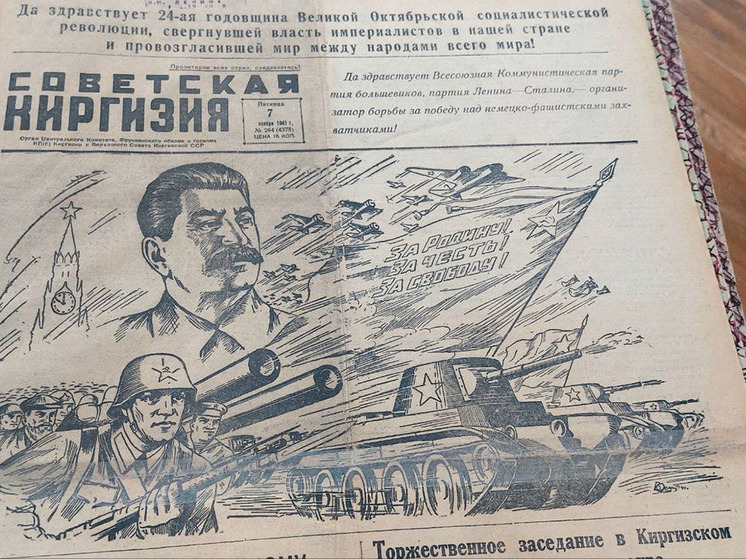Все режиссерские работы Ларисы отличаются ее особенным восприятием человеческого мира. Она создает спектакль так, словно препарирует его, разделяя на частицы, а потом сшивает их в единое пестрое полотно. Будь Лариса художником, в ее стиле соединились бы сразу несколько гениев: Дали, Пикассо, Микеланджело, Ван Гог, Моне, Лотрек…
Ее творчество насколько синтетически разношерстно, что иногда невозможно представить себе, как такое многообразие может быть сфокусировано в одной личности. Так было со спектаклем «Бородино. Наброски людей», далее – «Шекспир», «Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса» и «Зверь». Последняя работа над пьесой драматурга Олега Богаева – «Я убил царя» – это попытка показать изнаночную сторону настоящего, обрамляя недалекое прошлое элементами современного ток-шоу.
Спектакль «Я убил царя» вырос из эскиза, а окончательный вид приобрел лишь через год из-за ковидных ограничений. Работа строилась долго, шла медленно, но так представилась возможность прожить и пропустить через себя каждое слово пьесы и каждое замечание режиссера. Премьера спектакля состоится 31 августа в ЦК «Верх-Исетский», но уже сейчас мы можем узнать, что ожидает зрителей на сцене.
Мы оказываемся в зале суда. По центру расположена трибуна, где над секретарем в клетке восседает судья – Имперский Великий Маг, олицетворяющий борьбу непримиримых сторон: старого и нового, слабых и сильных, высших и низших, а по обе его руки, томящиеся в ожидании, вынужденные смотреть в глаза друг другу, не найдя никакой правды, свидетели.
Багровые и синие пятна света подчеркивают атмосферу ужаса в его повседневной реальности. И вот начинается разбирательство над покрытым пеленою тайн делом, связанным с царской семьей. Каждый озвучивает свою версию происходящего, каждого, с одной стороны, распирает от бахвальства и нетерпимости, с другой – боязнь неизвестности поглощает и сдерживает, но не может скрыть истинную сущность «раба». Каждого подключают к сложной системе проводов «детектора лжи», делая «подопытным кроликом» безжалостной действительности.
Самый главный вопрос срывается с губ каждого участника этого процесса: «А за что их жалеть?» Все звуки в этой фразе пронизаны гневом и жесткостью, от которой хочется наконец-то освободиться. Все действие спектакля выстроено вертикально по нарастающей. Есть несколько ключевых ролей, служащих своего рода кульминационными штрихами, дабы сюжетная линия отскакивала от каждой мизансцены с новой силой.
Это роли в исполнении актеров Нины Шишкиной, Евгения Белезы, естественно, невозможно упустить реалистичную игру Александра Алферьева и Игоря Корделя. На фоне остальных их герои предстают совершенно открытыми, называя все своими именами, и будь что будет. Корделю с персонажем в принципе повезло – эдакий юродивый репортер-балалаечник, магнетически завораживающий всех своим частушечьим мотивом, в чем, кстати, и раскрывается душа простого русского человека, а в своей эмоциональности Игорь ни капли не уступает Александру Алферьеву.
В какой-то момент яркой вспышкой сквозь всю линию допроса на сцене появляются призраки царевен: невинные, в белых рубашках среди темной толпы, они напоминают своим палачам о совершенном «подвиге», но до этого нет никому дела, их не видят. Апогеем становится сцена признания Петра Ермакова (Алексей Шестаков): «Я – Петр Ермаков... Да мало ли говорят! Вы их не слушайте! Эти позже примазались, стрелял я вовсе один: «Жах-жах-жах»! А те, кто был со мной, от страха обделались, ручошки тряслись».

Здесь нет хороших или плохих. Важно то, что режиссеру удалось сохранить принцип человеческой трансформации в зависимости от ситуации, в которой он пребывает.
В финале происходит срыв масок, и еще недавно восседающий на трибуне Имперский Маг снимает свой белоснежный колпак, и зрители узнают в нем беспомощного и слабого царя Николая. Молодому и талантливому Никите Устьянцеву всегда удается внести трепетность в образ своего героя: мимика, тон, голос, паузы – все это получается легко и обаятельно, что просто потрясает. Ангельский взор Устьянцева присущ немногим, и место его в этой роли – вопрос дискуссионный, требующий размышлений, но именно в этот момент концентрация любви и нежности в одном человеке, в одном актере перерастает в зрительское восхищение, проклевывающееся сквозь слезы переосмысления истории.
Лариса Абашева всегда увлекает зрителя в уникальный и одновременно странный мир, не похожий на остальные, и в этом ее прелесть. Нам остается наблюдать за тем, как режиссер находит новые способы самовыражения и воплощения идей на сцене.